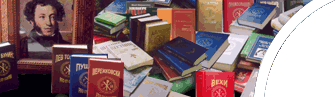К.
- корреспондент
Д.Б.
- Дмитрий Бурлака
К. Дмитрий Кириллович, По итогам конкурсов РГНФ 1995-2002
гг., учитывающих все виды конкурсов - исследовательского, издания научных
трудов, проведение научных мероприятий, создание информационных систем,
развитие материальной базы научных журналов - РХГИ входит в пятерку
ведущих университетов России, занимая четвертое место после МГУ, СПбГУ,
ТомГУ. Локомотивом, вытащившим РХГИ в число лидеров, является Издательство
вуза. Это очевидный успех. Каковы его причины и составляющие? Каковы
проблемы, с которыми сталкиваетесь Вы и в целом российское научное книгоиздание,
как Вы видите перспективы развития?.
Д.Б. Согласен с Вами, что темпы развития нашего издательства
высоки. Институт работает с 1989 г., но издаем мы с 1994. За это время
опубликовано более ста пятидесяти книг общим объемом свыше 7000 печ.л.,
количество публикаций каждый год стабильно и мы надеемся сохранить эти
темпы роста и далее.
К. Тем не менее, в России существуют издательства, публикующие
(в том числе гуманитарную литературу) книги В чем причины успеха РХГИ?
Д.Б. Думаю, дело в оригинальности издательских замыслов, а также
в уровне научно-редакционной подготовки книг и качестве полиграфического
исполнения. РХГИ не специализируется на переиздании известных книг и
тем более ни разу не позволил себе опуститься до уровня репринта. Конечно,
мы публикуем тексты известных авторов, например, в сериях "Живая традиция"
и "Из архива русской эмиграции", однако, наличие, по крайней мере, относительной
новизны (историко-научный комментарий, своеобразное издательское оформление,
неизвестность текстов широкому российскому читателю) является обязательным
условием появления книги с грифом нашего Издательства.
К. "Живая традиция" - так, кажется , называется известная
книга выдающегося православного богослова - Иоанна Мейердорфа?
Д.Б. Совершенно верно. "Живая традиция" тематически воспроизводит
название знаменитой книги прот. И. Мейндорфа и предполагает публикацию
наиболее концептуальных работ православных священников-мыслителей -
свящ. П.Флоренского "Оправдание космоса", арх. Иоанна Сан-Франциссклго
(Шаховского) "Философия православного пастырства", прот. Г. Шавельского
"Православное пастырство", работы прот. И. Мейендорфа, прот. В. Экземплярского,
прот. Г. Флоровского.
К. Однако, Ваше издательство не специализируется исключительно
на религиозной литературе.
Д.Б. Совершенно верно. Подобно тому, как в названии института
присутствуют термины "Русский" и "Гуманитарный", деятельность издательства
также связана с развитием гуманитарной науки и образования и, главное
- с возрождением российской культуры. Вообще основная часть наших публикаций
рубрицирована по определенным сериям. Среди них "Живая традиция", о
которой я уже говорил, "Современная российская мысль", "Книжный мир
России", "Из архива русской эмиграции", и, конечно, "Русский Путь".
К. Архив русской эмиграции - понятие довольно широкое. Вы
предполагаете публикацию писем, мемуаров?
Д.Б. Да, это входит в планы названной серии, но проект этим не
ограничивается. Институт планирует публиковать недошедшие до отечественного
читателя, но существенные для отечественной культуры работы выдающихся
русских мыслителей, которые вынуждены были покинуть Родину. Так, издательство
приобрело у ЦРГАЛИ права на публикацию последней, так сказать, "предсмертной"
книги Н.А. Бердяева "Истина и Откровение", мы решили издать также концептуально-итоговую
работу С.Л. Франка "Реальность и Человек". После текстов Бердяева и
Франка планируются к изданию работы В. Ильина, Ф. Степуна, П. Струве,
И. Ильина, С. Булгакова и др. мыслителей.
К. Судя по названию других серий Вашего издательства, в них
входят книги, которые вообще новы для читателя, например, "Современная
российская мысль", "Книжный мир России"?
Д.Б. В общем, да. Состав этих серий разнообразен.
К. Дмитрий Кириллович, все-таки деятельность издательства
РХГИ связывается в России и за рубежом с проектом "Русский Путь".
Д.Б. Совершенно верно, я сам всегда это подчеркиваю. "Русский
Путь" - ключевой проект института, он выражает нашу идеологию и символизирует
деятельность образовательного учреждения в целом.
К. Очень интересно! Я думал, вопросы идеологии остались в
нашем коммунистическом прошлом вместе с кафедрами марксизма-ленинизма.
Д.Б. В прошлом, я надеюсь, осталась "единственно верная" марксистская
идеология. Идеологии же в политике, в иных сферах социальной жизни и,
конечно же, в образовании были и будут, даже т.н. "деидеологизация"
представляет собой форму идеологии. Та идеология образования, которую
пытается заложить в своем Госстандарте Министерство, может быть охарактеризована
как позитивистско-демократическая. Это лучше, чем "единственно-верная".
Еще лучше то, что законом позволено разрабатывать различные образовательные
модели. Этим мы и занимаемся в РХГИ почти десять лет. Я считаю, России
необходимо образование, аутентичное традициям национальной культуры,
последняя же просто не существует без христианских ценностей.
К. Здесь возникает много вопросов. Во-первых, не приведет
ли такая позиция к национал-шовинизму, прикрытому красивыми словами,
как это было в Германии? Во-вторых, - к клерикализму?
Д.Б. Отнюдь. Более того, позиция, которую мы занимаем, призвана
противостоять названным Вами возможностям. Нация - реальность не этническая,
как племя или народ, она не связана с кровью, хотя фашисты (немецкие
и русские) полагают обратное. Нация - понятие культурно-историческое
и богословское. Культурно-исторически нация - это духовный генофонд,
определяющий развитие отдельного индивидуального субъекта. В богословском
плане нация - историческая реализация божественного замысла о том или
ином народе. Это необходимо знать и проповедовать на студенческом уровне.
Иначе "Русская идея" будет жупелом в руках провокаторов и полуграмотных
демагогов. О клерикализме смешно говорить, мы не настолько глупы, чтобы
тащить современного студента в средневековье. Историю нельзя повторить,
она творится, творчество же, по определению, предполагает созидание
новых форм бытия , в нашем случае новых феноменов культуры.
К. Тем не менее, Дмитрий Кириллович, позиция института и издательства
акцентируется первым словом их названия - "Русский".
Д.Б. Наша позиция основывается на признании особой роли русской
культуры в развитии мировой цивилизации, причем без националистической
гордыни, с одной стороны, и денационализированного критицизма, с другой.
Позиция, с которой осмысливаются реалии российской культуры имеют в
своей основе отказ от утопической веры в возможность "рая на земле",
каким бы он ни выглядел - теократическим, коммунистическим или технократическим,
"в отдельно взятой стране" или в масштабе всего человечества. История
творится, и в возникающей в этом процессе культуре раскрываются как
высшие потенции человеческого духа, так и его соблазны, история столько
же прогресс разума, сколько демонстрация человеческих заблуждений и
их изживание, в ней взлеты национального гения соседствуют с падениями
и катастрофами. В этом плане содержание русской истории и культуры символизирует
как творческую мощь национального духа, так и грехи России. Очерченный
выше подход к отечественной культуре мы реализуем как в образовательном
процессе, так и в издательстве, в особенности - через "Русский Путь".
К. Иными словами, "Русский Путь" - это судьба России
во всей ее противоречивости.
Д.Б. Да, но важно подчеркнуть, что "Русский путь" является формой
национального самосознания. Замысел проекта - представить русскую культуру
в системе таких ее сущностных суждений о самой себе, которые отражают
противоречивую динамику ее развития. На первом этапе развития проекта
"Русский Путь" в качестве символизации национального культуротворчества
были избраны выдающиеся люди России. "Русский Путь" открылся антологией
"Н.А. Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. Бердяева в оценке
русских мыслителей и исследователей". Каждая из книг какой-либо подсерии
( философской, литературной, политической и др.) посвящена творчеству
и судьбе видного деятеля отечественной истории и культуры - философа,
писателя или государственного деятеля. Состав ее формируется как сборник
исследований и воспоминаний, достаточно компактных по размеру и емких
по содержанию, оценивающих жизнь и творчество данного представителя
русской культуры и принадлежащих другим видным ее деятелям, которые
выступают тем самым в качестве сторонников и продолжателей, либо критиков
и оппонентов того или иного субъекта национального культурно-исторического
творчества. При этом составители снабжают тексты антологий историко-научными
комментариями, помогающими современному читателю, например, студенту
увидеть исторические обстоятельства возникновения той или иной оценки,
мнения. Таким образом, глазам читателя предстает своего рода "Малая
Энциклопедия" о П.Флоренском или Л. Толстом.
К. Это похоже на "Жизнь замечательных людей".
Д.Б. Скорее на жизнь замечательных идей. При этом наша серия
более "жива", т.к. дает возможность высказаться многим людям - современникам,
последователям, противникам. Антологии "Русского пути" не навязывают
читателю определенного мнения, заставляя его думать.
К. Не кажется ли Вам, что такая позиция издателя ущербна,
ее как бы и нет вовсе. Д.Б. Не кажется. Во-первых, она есть в самом
выборе объекта анализа, а также базовых текстов антологии. Во-вторых,
какое мнение Вы собираетесь предложить читателю о Соловьеве или Толстом?
Наша задача расширить представление человека о России, показать многогранность
ее талантов и их противоречивость. В-третьих, мы исходим из фундаментального
принципа христианства - свободы. К. Как Вы думаете, где более всего
могут быть полезны антологии "Русского Пути"?
Д.Б. Трудно сказать, но, наверное, в образовании. Однако экономическая
ситуация в вузах сейчас не способствует широкому распространению серии.
Многие книги не дошли до регионов. Это, кстати, одна из фундаментальных
проблем современного российского книгоиздания в целом, о которых Вы
спрашивали в начале нашего разговора.
К. Расскажите о ней подробнее, пожалуйста, и каковы пути ее
разрешения, если таковые существуют.
Д.Б. Чтобы существовать и развиваться, издательство должно продавать
свои книги. По крайней мере, возвращать вложенные средства. Сейчас основная
реализация гуманитарной литературы проходит в Москве и Петербурге, регионы
малодоступны. Отсюда - маленькие тиражи (не более 3000 экз.), а значит
высокая себестоимость, которая с учетом торговых наценок делает книгу
неподъемной для бюджетной части интеллигенции. А ее - большинство.
К. Что значит регионы недоступны? В чем трудности послать
100 экз. книги, например, в Челябинск? Это ведь не другой континент.
Д.Б. Если бы проблемы не было, периферия была бы завалена книгами.
Но в издательском бизнесе воспроизводится общая экономическая ситуация.
Монополия на энергоносители ведет к огромному завышению цен на них,
в частности, непомерно велики транспортные расходы. Если работать мелкими
партиями , вроде той, о которой Вы сказали, книги для провинциальной
интеллигенции будут буквально золотыми. Без РГНФ целый ряд книг просто
невозможно было бы издать и приобрести.
К. Возможны ли какие-то другие централизованные действия,
способствующие решению издательских проблем?
Д.Б. Сейчас мы планируем приступить к структурным изменениям
в серии, которые помогут решить проблему отчасти.
К. Что Вы имеете в виду?
Д.Б. Речь идет о создании электронных (расширенных) версий антологий
и вывода их в Интернет. Мы считаем, что итогом проекта должна стать
мультимедийная гипертекстовая система "Русский Путь - энциклопедия самосознания
русской культуры". Создание подобной системы соответствует ключевой
тенденции информационного развития современной цивилизации. Формирование
системы управления базой данных "Русский путь" позволит всем российским
вузам и академическим структурам пользоваться информацией, чрезвычайно
необходимой для образовательного процесса.
К. Но ведь электронные возможности наших студентов и преподавателей
пока ограничены.
Д.Б. Поэтому я сказал о частичном решении. Думаю, компьютер полностью
книг не заменит очень долго.
К. Дмитрий Кириллович, не кажется ли Вам, что тематический
ресурс "Русского Пути" ограничен. Кто из великих, например, философов,
еще не попал к Вам - Соловьев, Карсавин, Булгаков? Осталось не так много.
Д.Б. А кто сказал, что в "Русском Пути" будут только философы?
Речь идет о символах национальной культуры. Мы начали с философов, наверное,
потому, что я по образованию философ. Так было проще, к тому же в 1994
г. было 120 лет Бердяеву, с которого "Русский Путь" и стартовал. Хочу
еще раз повторить, что мы предполагаем расширить "Русский Путь" структурно
и тематически до уровня "Энциклопедии самосознания русской культуры".
Сейчас мы готовим совершенно новый слой антологий - о творцах нашей
политической истории. Начнем с российских императоров от Петра Великого
до Николая Второго. "Петр I: pro et contra" вторично переиздан нами,
т.к. на книгу имеется спрос.
К. А потом будет Ленин, Сталин, Горбачев?
Д.Б. О живущих как-то даже не думал. Что касается господ Ульянова
и Джугашвили, боюсь, это очень сложный и политизированный вопрос. Не
готов на него ответить сейчас. К тому же политика не единственное структурное
расширение "Русского Пути". Необходимо осмысливать не только персоналии
русской культуры, но и ее универсалии, говоря более широко, универсалии
мировой культуры в российской транскрипции. Говоря о реалиях, имею в
виду, например, свободу, смерть, судьбу (сфера духовности); науку, религию,
искусство ( формы культуры); консерватизм, демократию, большевизм (течения
в политике). Этот список можно продолжить. Здесь мы заинтересованы в
сотрудничестве с самыми разными авторами.
К. Это интересный поворот издательской политики, однако, заглавие
вроде "Смерть: pro et contra" будет выглядеть, мягко скажем, странно.
Д.Б. Полностью с Вами согласен. Но мы не привязываем себя намертво
(аллюзия на ваш вопрос) к этой латинской фразе. Хотя на глубине "за
и против" о смерти или свободе не менее актуально, чем о Бердяеве или
Толстом. (Подразумеваю в данном случае не свою личную позицию, а осмысление
этих реалий в культуре).
К. Дмитрий Кириллович, но в таком варианте серия "Русский
Путь" практически бесконечна?
Д.Б. На наш век хватит. Но ведь культурно-исторических реалий,
вокруг которых можно сгруппировать мысли выдающихся людей, не так уж
много. Кроме того, надо учитывать еще один аспект, который для меня,
например, очень привлекателен. Вокруг универсалий культуры, или, говоря
по-другому, - мифологем или идей, можно сгруппировать действительно
"звездные" мысли и суждения, выявить своего рода квинтэссенцию нашего
культурно-исторического бытия. О Чаадаеве или Толстом такого, как ни
старайся, не создашь: всегда будут вклиниваться вторичные суждения,
связанные с личными отношениями, историко-культурными обстоятельствами.
Однако в целом такая работа по выуживанию этой квинтэссенции очень трудоемка.
Не исключено, что антологии такого типа возможны только в электронной
версии?
К. Давайте продолжим разговор о выдающихся людях. Екатерина
Великая, о которой Вы планируете создать книгу - немка, а Вл. Набоков,
книга о котором в печати, считается не только русским, но и американским
или англоязычным писателем.
Д.Б. Ну и что. Этническое происхождение не имеет отношения к
нации, ибо "плоть и кровь не могут наследовать вечности", а культура
по своему смыслу - это прорыв человека к вечному. Язык, конечно, не
отделим от культурно-исторического бытия, многие вслед за Хайдеггером
говорят, что это Дом бытия. Но ведь и русская культура - это не замкнутая
самодостаточная цельность. Наши великие мыслители говорили как раз о
восприимчивости и открытости России к иным культурным влияниям, умении
ассимилировать их. Учитывая это, мы расширяем "Русский Путь" еще двумя
пластами антологий.
К. Речь пойдет об инородных влияниях на русскую культуру?
Д.Б. Верно. И хотя слово инородный ассоциируется с "инородцем",
но употреблено точно, поскольку культура онтологически связана не с
рождением, а с творчеством. Первый из вышеназванных слоев можно назвать
"Западные мыслители в русской культуре", например, "Зигмунд Фрейд: pro
et contra. Миросозерцание Зигмунда Фрейда в оценке русских мыслителей
и исследователей", а также аналогичные книги по Августину, Маккиавелли,
Декарту, Канту и др.
К. Фрейд: за и против, безусловно, интересно и по названию
оправдано. Но как быть с Платоном, например?
Д.Б. Повторяю, что "pro et contra" не является неотъемлемой частью
нашей деятельности, хотя если вести речь о платонизме, как мировоззрении
и методологии, а не о личности Платона, то будут и "за" и "против".
Второй пласт издательской программы также не связан на поверхности с
"pro et сontra".
К. Речь пойдет о политических фигурах?
Д.Б. Догадаться не сложно. О творцах мировой истории, повлиявших
на судьбу России. Например, Чингиз-хан, Наполеон. Здесь, конечно, интереснее
было бы дать картину осмысления этих персоналий не только нашими мыслителями,
но и мировыми.
К. Но тогда размоется концепция серии "Русский Путь".
Д.Б. Россия - часть мировой цивилизации.
К. Дмитрий Кириллович, Вы, как я понял из нашей беседы, искушенный
диалектик, у Вас на все есть ответ. Но, все-таки, где же итог Ваших
"pro et contra", где синтез всех этих тезисов и антитезисов?
Д.Б. Синтез, причем не только теоретический, но и практический
- в образовательной программе и деятельности РХГИ. Мы, в первую очередь,
учебное заведение, широко известное, благодаря Издательству. Но это
тема отдельного разговора.
К. Чему Вы учите прежде всего?
Д.Б. Мыслить. Приходите, мы Вас научим. Заодно и у Вас поучимся.
191023,
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15
тел. (812) 5713075
E-mail:editor@rchgi.spb.ru